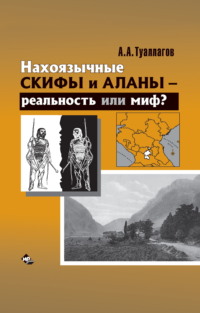Czytaj książkę: «Нахоязычные скифы и аланы – реальность или миф?»

Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева – филиал Федерального научного центра «ВНЦ РАН»
Рецензенты:
доктор ист. наук Р. Г. Дзаттиаты,
канд. ист. наук Ю. С. Гаглойти

© Туаллагов А. А., 2008
© Григорян В. С., дизайн, 2008
© Оформление. ГУП «Издательство «Ир», 2020
Предисловие
Противостоять воздействию подобной мифологии чрезвычайно трудно, поскольку, существуя в измерении «веры», она нечувствительна к научной аргументации. Поступки же людей определяются не «объективно существующей» ситуацией, а тем, каким образом они её воспринимают.
Недооценивать эту своеобразную идеологию было бы опасно: миф, как замечал ещё Николай Бердяев, «может заключать в себе взрывчатую динамическую энергию и двигать массами, которые мало интересуются научной истиной, и вообще истиной».
В. Шнирельман
Предлагаемый читателю небольшой сборник вызван к жизни известными событиями и нынешним положением в отношениях Северной Осетии и Ингушетии. Человечество знает многие примеры того, как различного рода интерпретации истории служили поводом для неблаговидных политических деяний. Одной из сфер современного применения подобных интерпретаций стали межнациональные отношения на Северном Кавказе. Поэтому в настоящее время перед специалистами-историками стоит актуальная задача своевременного и компетентного анализа появляющихся опусов различных авторов, изначально направленных не на поиск исторической истины, а на обслуживание тех или иных политических интересов.
В основу сборника легли статьи автора, опубликованные в научных изданиях Владикавказа (Вестник ВНЦ, 2004, т. 4, № 1) и Ростова-на-Дону (Южнороссийское обозрение. 2004, № 22, 24). Учитывая задачи данного сборника, они были несколько переработаны. Первую часть сборника представляет статья, написанная автором после более полного ознакомления с современными работами, в которых т. н. учёные всеми силами и способами стремятся провозгласить антинаучный тезис о прямом генетическом родстве нахских народов с аланами. Здесь заинтересованный читатель сможет ознакомиться с достаточно полной на период до 2005 г., когда и был составлен предлагаемый труд, картиной имеющихся наработок и утверждений по поводу мифических нахоязычных алан, а также тех причин, которые, по мнению автора, обусловили их появление.
Вторая часть представляет рецензию автора на одну из книг, посвящённых частной проблеме – истории Магаса, столицы средневековой Алании. Она была написана по предложению опубликовавшей книгу стороны с обещанием издания её в Ингушетии. Однако впоследствии, после предоставления подготовленной рецензии, в её публикации было отказано. Вопрос мог быть исчерпан. Но после такого отказа в газете «Ингушетия» от 2 марта 2004 г. появилась первая часть статьи полковника медицинской службы запаса Ю. Тимерханова, ныне представляющегося краеведом, под названием «Рецензия на рецензию». Её автор объяснил свою публикацию тем, что ему «… совершенно случайно попалась 10-страничная рецензия…». Следует с благодарностью отметить, что в Ингушетии нашлись силы, которым хватило мудрости и воли, чтобы пресечь дальнейшую публикацию столь, мягко говоря, необъяснимого ни с научной, ни с моральной точки зрения материала. Но в сложившейся тогда ситуации я посчитал себя уже обязанным опубликовать рецензию в научном журнале во Владикавказе. Теперь с ней может ознакомиться и более широкий круг читателей, которым предоставляется возможность делать собственные выводы о технологии и аргументированности идеи нахоязычия алан.
Третья часть сборника составлена на основе статьи автора, посвящённой проблеме пребывания скифов на Северном Кавказе. В ней приводится общий круг известных письменных источников, анализ которых лежит в основе научных разработок специалистов-скифо-логов. Хочется надеяться, что представленные в работе источниковая база, а также далеко не полный круг весьма обширной и разноплановой современной исследовательской литературы помогут читателю сформировать общее представление о сложности и специфике научного исследования затрагиваемой проблемы. На этом фоне читателю, как я полагаю, будет легче разобраться в «объективности и научности» исследований о нахоязычии алан. Исходя из тематической направленности сборника, мною была изъята часть, посвящённая анализу идеи тюркоязычия скифов. Возможно, в будущем мне удастся опубликовать и её на основе проведённого дополнительного анализа имеющихся разработок. Уважаемому читателю пока остаётся только поверить автору на слово об удивительной и, видимо, закономерной схожести способов достижения запрограммированного сторонниками обоих направлений вывода.
В ходе работы для меня становилось всё более ясно, что перед нашими народами стоят только два пути. Первый – это путь консервации старых и накопления новых обид и претензий друг к другу, вражды и нетерпимости, ведущих к новым жертвам, потерям, горю и самоубийственному концу. Второй – путь сдержанности, постоянного поиска компромиссов, взаимного доверия и понимания, ведущих к миру и добрососедству. Как показывает практика, второй путь гораздо тяжелее, прежде всего, для человеческой души. И всё-таки, не дай нам Бог явить глупость и пойти за теми из нас, кто сеет вражду оружием и словом, одинаково безжалостно и подло лишает будущего нас и наших детей.
«Ингушская Алания» и «ингуши-аланы»
(от реальности к мифу и от мифа к реальности)
В последние годы одной из наиболее популярных идей среди ингушской интеллигенции стало утверждение о генетической связи ингушей с аланами, которых представляют нахоязычным народом. Видимо, среди основоположников данного «нового направления» следует признать чеченского филолога Я. С. Вагапова (1980а, 19806, 1981, 1984, 1990, 1991, 1996), неоднократно обращавшегося в своих статьях к известным из научной литературы данным по аланской ономастике, топонимике и т. д. Основная часть его «открытий» была обобщена в монографическом издании. Приёмы доказательств Я. С. Вагапова стали практически общепринятыми для его последователей. Им, прежде всего, присуще полное игнорирование законов исторического развития языка, компенсируемое личной убеждённостью, что всё аланское должно быть нахским и, соответственно, легко объяснимым при помощи современных ингушского и чеченского языков. Таким образом, для названия самих алан легко подбираются созвучные нахские слова.
Показательно, что американский лингвист Л. Згуста, специально обратившийся к разбору мнений о языке Зеленчукской надписи, вынужден был отметить, что предложенное нахское толкование неубедительно (Zgusta, 1987). Его конкретный анализ доказательной базы Я.С. Вагапова вызвал неудовольствие у ингушского краеведа Ю. Тимерханова (2004), обвинившего Л. Згусту в искажениях и незнании ингушского языка. Краевед настаивает на правильности нахского перевода, в частности, указывая на справедливость мнения о заимствовании осет. furt/fyrt – «сын» из ингушского языка. Видимо, природному носителю ингушского языка остался неизвестен научно установленный факт, что согласный ƒ исторически чужд ингушскому языку, появившись достаточно поздно под несомненным осетинским влиянием (Абаев, 1959; Гониашвили, 1977). Такое положение, например, прекрасно демонстрируют заимствования из осетинского. А осет. furt/fyrt имеет вполне надёжную иранскую этимологию (Абаев, 1996а). Здесь я уже не буду касаться других частных утверждений Я. С. Вагапова, таких, как размещение упомянутых Птолемеем аланорсов к северу от Азовского моря возле неких славян, идентификация нахчаматеан «Ашхарацуйц» с чеченским племенем и т. д., поскольку любому специалисту вполне понятно явное незнание автором используемых им источников.
Представители «нового направления», видимо, опираясь на наблюдения специалистов о собирательном характере термина «алан» в ряде нарративных источников, устранились от необходимого анализа сведений отдельно взятых материалов, что «позволило» им заявлять о том, что среди алан были не только ираноязычные, но и иные кавказские элементы, сводимые, в конечном счёте, к нахским (Плиев, 1997). Пожалуй, никто из алановедов и не утверждал, что в состав объединений алан на разных территориях и в разные времена не входили представители иных этносов, тем более, в период создания Аланского государства. Однако в результате они не становились этническими аланами. Подобные примеры хорошо известны в истории других народов и государств. Полагаю, сторонники нахоязычия алан никогда не согласятся с утверждением, что чеченцы или ингуши, служившие, например, в русской армии и ставшие гражданами России, тем самым превратились в русских. Наконец, был сделан и окончательный вывод об изначальном нахоязычии всех алан или, как вариант, о культурной ассимилияции ираноязычных алан, автоматически превращающей Аланию в нахское государство (Сигаури, 1997). Показательно, что, подбирая основу для нахской этимологии названия «алан», нередко используют нахский социальный термин «але», «аьла», «эли» – «князь/господин», совершенно забывая предположение А. Н. Генко о его заимствовании. Такая «забывчивость» представлена на фоне переиздания работы А. Н. Генко в сборнике, в котором соответствующая часть об ингушских заимствованиях из осетинского языка просто изъята (Ингуши… 1996).
Работы Я. С. Вагапова, по существу, стали отправной точкой для создания последующих опусов о неких нахоязычных аланах, в которых говорится, что Я. С. Вагапов «доказал», «установил» и т. д. Уже его первые работы вызвали одобрение соотечественников, призывавших искать древние следы чеченцев и ингушей через алан и среди алан, с возложением особой надежды на языковедов, поскольку Я. С. Вагапов уже «объяснил» через нахские языки значение слова «алан» (Багаев, 1978). Лингвистическая эквилибристика Я. С. Вагапова подвигла его последователей к расширению сферы приложения своих усилий, и теперь нахоязычными стали сарматы, скифы и даже киммерийцы (Джамирзаев, 2002). До сегодняшнего дня наиболее слабой, если только можно найти иную, стороной указанных построений является археологический аспект. Наиболее полно и последовательно стремился найти повод для объявления аланских погребальных памятников принадлежащими нахоязычному населению Р. Д. Арсанукаев (1990а, 19906, 1991, 1992, 2002 и т. д.), чьи поиски также вылились в издание монографии. Автор, ныне гражданин Канады, упорно настаивает на тезисе некоторых исследователей, что катакомбный обряд погребения не был свойственен сарматам, а катакомбы сопоставимы со склеповыми сооружениями. Далее следует утверждение о зарождении на Северном Кавказе аланской материальной культуры, обусловленной внутренним развитием нахских племён. Вызывает недоумение игнорирование хорошо известных в науке фактов, противоречащих данным гипотезам (Туаллагов, 20016). Наукой давно и достаточно подробно рассмотрены проблемы взаимоотношений средневековых алан и нахов на примере археологических материалов, которые нашли себе вполне чёткое подтверждение и в устной традиции ингушей (Виноградов, 1985). Но эти разработки оказываются вне рассмотрения. В принципе, такой подход весьма характерен для приверженцев теории нахоязычия алан, которые либо не знают, что плохо, либо умалчивают, что ещё хуже, огромный массив научных разработок, весьма аргументированно опровергающий их позицию. Что касается способов интерпретации Р. Д. Арсанукаевым данных письменных источников, то некоторые из них проанализированы в третьей части предлагаемой работы.
Вот на такой основе и были взращены нынешние «теории» нахоязычия алан и прямой генетической преемственности между аланами и ингушами. Последователи этих взглядов, как и их предшественники, в первую очередь делают ставку на легко усваиваемые соотечественниками переводы с ингушского языка. С другой стороны, некоторые из них стремятся расширить свою доказательную базу за счёт, например, достаточно вольных интерпретаций материалов Нартовского эпоса, забывая как о специфике подобного рода источников, так и, соответственно, о специфике методов их анализа. Вполне надёжно установленный многими исследователями адаптационный характер Нартовского эпоса нахов, при котором сохраняются как мотивы противостояния местных героев с воинственными чужаками нарт-орстхойцами, так и мотивы признания нартов собственными героями, является наиболее раздражающим фактом. Поэтому из одной работы в другую переносится тезис о том, что якобы речь должна идти об историческом противостоянии горных и плоскостных нахов (Мужухоев, 1992, 1995, 1996; Мужухоев, Мужухоева, 1995; Мужухоева, 1991).
Выдвигаются аргументы в пользу появления алан в горных ущельях, заселённых местными племенами, только после поражения от татаро-монголов. Надёжно установленные археологическими данными факты заселения аланами горных районов, по крайней мере с VI в. н. э., вообще не упоминаются. Сделанный умозрительным путём вывод о том, что термин «алан» покрывал в этническом плане ближайших предков чеченцев и ингушей, становится основой для работ М. Б. Мужухоева (1996).
Примечательно, что С. М. Джамирзаев (2002), утверждая этнический характер термина «алан» для нахов и ссылаясь на мнение В. И. Марковина, что скифо-сарматские племена являются прямыми предками нахов, даёт сноску на работу именно М. Б. Мужухоева. Последний же, цитируя слова В. И. Марковина (1991), что прямыми предками чеченцев и ингушей являются племена скифо-сарматского времени, под которыми автор понимает потомков носителей каякентско-харачоевской культуры, испытавших влияние кобанцев, в конечном счёте, «переводит» сказанное в плоскость этнической принадлежности алан. Сторонники нахоязычия алан, вопреки всем данным исторической науки, исходят из идеи автохтонности аланского населения Северного Кавказа, поскольку в противном случае они вступят в ещё одно непреодолимое противоречие с данными исторической науки. Поэтому и Р. Д. Арсанукаев, и М. Б. Мужухоев, и другие их единомышленники в первую очередь обращаются к истории носителей кобанской археологической культуры. Они и объявляются древним нахоязычным населением Северного Кавказа, в результате определённых трансформаций превращающимся в алан.
Не буду полностью разбирать используемые М.Б. Мужухоевым доводы, отмечу лишь частные положения. Так, обращаясь к известным историческим источникам, упоминающим гаргареев, автор объявляет об их принадлежности к древненахскому этносу на основе якобы сугубо нахской лексемы «гаргар». Однако в специальных работах отмечалось, что речь идёт о нахо-дагестанском источнике, включающем аварский, рутульский, цахурский языки. Автор, обращаясь к образу амазонок, вообще не отдаёт себе отчёта в том, что данный образ изначально связан с малоазийским регионом (хотя его связи могут быть и более обширны), становясь неотъемлемой частью мифологических представлений, которые затем подвергаются разнообразной историзации.
Что касается кобанской культуры, то ещё никому не удавалось вывести изначально аланскую культуру из кобанской. Кроме версии о нахоязычии кобанцев равные права на жизнь имеют версии о её нахо-дагестанской или протоадыгской принадлежности, не говоря уже об иных возможных вариантах. В настоящее время существует две точки зрения на сущность самой кобанской культуры. Согласно первой, речь идёт об этнокультурной общности, предполагающей моноэтническую среду, но не исключающей определённые этнические особенности. Согласно второй, к которой всё более склоняются специалисты, следует говорить о кобанской культурно-исторической общности, предполагающей как существование нескольких синхронных культур (соответственно с предшествующим поликультурным образованием), так и нескольких этносов. В конечном счёте, значительную важность приобретает вопрос о количественной и качественной роли субстрата в сложении того или иного варианта кобанской культуры. И до появления алан кобанская культура уже испытала на себе заметное влияние со стороны скифов, савроматов и сарматов. В последнее время открываются факты взаимодействия кобанской и древнемеотской культур.
Darmowy fragment się skończył.